Тайный викарий католического апостольского администратора в Москве (Российская греко-католическая церковь)
В миру Ремов Николай Федорович, родился 3 октября года в Москве , в семье священника Успенской церви на Малой Дмитровке .
После защиты магистерской диссертации "Книга пророка Аввакума : Введение и толкование" (Серг. П., 1913) был назначен доцентом кафедры Священного Писания Ветхого Завета , а в году - экстраординарным профессором Московской духовной академии.
Сочинения
- Пророк веры // БВ. 1914. № 1. С. 13;
- Какою должна быть обличительная проповедь? // Голос Церкви. 1914. Янв./февр.;
- Пророк последних дней первого Иерусалима // Юбил. сб. МДА. Серг. П., 1914. Ч. 2. С. 537-548;
- Поем Воскресшему из мертвых // Моск. ЕВ. 1915. № 12-13;
- Согрешил, Отче! // Моск. ЦВед. 1914. № 6;
- Об изучении Свящ. Писания // Христианин. 1914. № 1;
- Памяти великого святителя: [Филарет (Дроздов), митр. Московский] // БВ. 1918. № 1. С. 1-80;
- Письма и автобиография / Публ. А. Беглова // Альфа и Омега. 1996. № 2/3 (9/10). С. 353-378;
- Из духовного наследия / Предисл. и публ. А. Беглова // Там же. 1998. № 4 (18). С. 119-133;
- Мы владеем всерадостной тайной / Публ. А. Беглова // Там же. 2000. № 1 (23). С. 87-108.
Архивные материалы и литература
- ЦА ФСБ РФ. Д. Р-28266; Д. Р-39843.
- Именной список ректорам и инспекторам на 1917 г. С. 24.
- Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Куйбышев, 1966. Ч. 2. С. 71-75. Ркп.;
- Wenger А. Rome et Moscou, 1900-1905. P., 1987;
- Юдин А. «Я готов на любые жертвы…» // Истина и жизнь. 1996. № 2. С. 33-39;
- За Христа пострадавшие. С. 219-220; Дубинский А. Ю. Московская ДС. М., 1998;
- Осипова И. И. «Сквозь огнь мучений и воды слез…». М., 1998. С. 129-135;
- Голубцов С. Профессура МДА в нач. ХХ в. М., 1999. С. 21-22;
- Волков С. А. Возле монастырских стен: Мемуары, дневники, письма. М., 2000. С. 98-102;
- Беглов А. Архиеп. Варфоломей (Ремов): Argumentum advocati Dei // Церковь в истории России. М., 2001. Вып. 5.
Использованные материалы
- Прот. Владимир Воробьёв. Варфоломей (Ремов) . Православная энциклопедия, т. 6, с. 716-717
Архиепископ Варфоломей (Ремов)
Будущий архиепископ Сергиевский Варфоломей (Ремов) родился в Москве 3/16 октября 1888 года и при крещении получил имя Николай. Однажды дом священника Феодора Ремова, отца будущего владыки, посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский, который был духовником семьи его деда по материнской линии (урожденной Анны Константиновны Лебедевой). Он склонился над колыбелью маленького Николая и, благословляя, назвал его будущим «исповедником Церкви и великим молитвенником».[ ] Жизнь будущего владыки с детства была сопряжена с острым переживанием сострадания боли ближних. Многие его братья и сестры скончались в детском возрасте. Он, как мог, утешал оставшихся. Болезнь и смерть близких побудили будущего владыку выбрать монашеский путь жизни.[ ]
В 1911 г. студент Московской Духовной академии Николай Федорович Ремов был пострижен в Зосимовой пустыни настоятелем обители и его духовником игуменом Германом (Гомзиным) с именем апостола Варфоломея. Вскоре он был рукоположен епископом Феодором (Поздеевским) во иеродиакона, а в 1912 году – во иеромонаха к Покровскому академическому храму, где наладил уставное богослужение, которое производило глубокое впечатление на современников; в этом наверняка сказался опыт богослужений в Зосимовой пустыни. Владыка всю жизнь продолжал оставаться верным чадом зосимовских старцев.
Поскольку лавра была закрыта, епископ Варфоломей жил в Москве. В 1922 году последовало его назначение в московский Высоко-Петровски й монастырь. В 1928 году по состоянию здоровья владыка уходит на покой, но продолжает руководить вверенной его попечению монашеской общиной.
Официально монастырь был закрыт властями еще в 1918 году и действовал только как приходской храм, но владыка Варфоломей, став настоятелем его храмов, вскоре пригласил сюда братию Зосимовой пустыни, закрытой в 1923 году, ввел в обители Устав Зосимовой пустыни. Службы совершались монастырским чином, община росла. Монастырь в те годы не мог существовать открыто, тем более в центре Москвы, но владыка Варфоломей не жалел для сохранения монашеской общины ни своих сил, ни здоровья, ни даже своего честного имени (формально в 1928 году при очередном аресте он дал подписку ОГПУ о сотрудничестве, которое на деле никак не осуществлял, что и было вменено ему в вину при аресте в 1935 году).
Монахиня Игнатия, прихожанка и тайная постриженица монастыря в те годы, оставившая много воспоминаний о своих духовных отцах, братьях и сестрах, писала о нем: «Владыка Варфоломей – епископ, а позднее архиепископ Московской епархии, был, несомненно, выдающейся личностью и кончил свою жизнь как исповедник и новомученик Русской Церкви в тяжелые для нее годы… его путь - это путь человека, с детских лет отмеченного Богом, одаренного в научном отношении и, главным образом, одаренного живым чувством в поисках пути духовного. <…> Во владыке многие видели и прозрение будущего, хотя он от всех это утаивал, только близким своим духовным детям при посещении Пятницкого кладбища, где были могилы его родителей, однажды вдруг неожиданно и твердо изрек: “А моей могилы и не будет”. Так и произошло. Владыка был расстрелян в июне 1935 г., и могила его, место его погребения известно только Богу. Образ владыки-святого и прозорливца стоит в душе, когда вспоминаешь, как он причащал нас Святого Тела и Крови Христовых за Божественной литургией. …Так и стоит образ владыки – огненного и вдохновенного исповедника Христа и Церкви Христовой, страдальца и новомученика, перед внутренним взором всех нас, воспитанных им во Христе и Церкви Христовой его апостольским, огненным служением и подвигом».
Другая прихожанка Высоко-Петровско го, пришедшая в общину после смерти своего духовного отца – протоиерея Валентина Свенцицкого, также оставила воспоминания о монастыре и о владыке Варфоломее. Воспоминания эти показывают, что владыка был очень внимательным духовником и ответственным руководителем большой духовной семьи: «Можно сказать, что это было настоящее чудо, что в ХХ веке среди шумной столицы находился такой уголок “Зосимовой пустыни”, за которым сохранилось до сих пор имя “Петровского монастыря”. <…> Здесь было много хороших пастырей, но главным лицом был Владыка Варфоломей. Он был подобен как бы большому орлу, который парил над всеми и собирал птенцов своих под крылья свои. Каждая душа находила место в его сердце, он имел какую-то особую способность всех вмещать в свою душу».
Помимо пастырских трудов и трудов, связанных с руководством тайным монастырем, владыка возглавлял и тайную Московскую духовную академию, продолжавшую готовить пастырей для Церкви Христовой в стенах Петровского монастыря, а затем других храмов, куда переходила Петровская община, а также в некоторых других местах Москвы.
Владыка Варфоломей выполнял и другие поручения священноначалия. Он был прекрасным знатоком не только богослужебного устава, но и церковно-славянс кого языка. По благословению митрополита Сергия владыка исправлял церковные службы и песнопения, поступающие на отзыв в Московскую Патриархию. «Добросовестно нёс он свое послушание до дня ареста, – пишет о нём митрополит Мануил (Лемешевский), – отмечал опытной рукой цензора и знатока своего дела все мусорное, плагиатное и оставляя бисеры в наследие Русской Православной Церкви».
Одним из важнейших деланий епископа Варфоломея было исполняемое по благословению, данному еще святителем Тихоном, а позже местоблюстителем Патриаршего Престола митрополитом Петром, осуществление связей с представителями Ватикана в Москве. Епископ Варфоломей был привлечен святым Патриархом Тихоном к межконфессиональ ным связям еще в 1922 году. И это было неслучайно: епископ-богослов владел пятью иностранными языками. Он был участником событий 1922 года, когда Ватикан предлагал советскому правительству заплатить за изъятые государством из православных храмов богослужебные сосуды для их дальнейшей передачи Церкви. (Это предложение осталось без ответа.) Епископ Варфоломей участвовал также в событиях 1924 года, когда власть пыталась добиться с помощью Вселенской Патриархии международного признания обновленцев. Он работал вместе с делегацией Иерусалимского Патриарха, прибывшей в Россию для поддержки Русской Церкви и разъяснения Поместным Православным Церквам церковной ситуации в России. В октябре 1925 года по просьбе Местоблюстителя сщмч. митрополита Петра епископ Варфоломей встречался с отцом Мишелем д’Эрбиньи.
Позже владыка Варфоломей передавал через католиков, особенно через Апостольского администратора в Москве католического епископа Пия Невё, на запад сведения о гонениях на религию в советской России.
С епископом Пием у владыки Варфоломея постепенно сложились дружеские отношения. В 1928 году при аресте епископа Варфоломея его вынудили дать подписку о сотрудничестве с «органами». Ему было дано задание наблюдать за действиями епископа Пия. Конечно, власти преследовали свои цели, однако подобное «задание» давало владыке больше возможностей для встреч с католическим прелатом, а значит, и для передачи через него необходимых сведений заграницу. Владыка Варфоломей не мог не оценить такого «подарка» органов. Дав подписку о сотрудничестве, на деле в течение семи лет (до ареста в 1935 году) он ни разу никак не проявил себя в качестве секретного сотрудника НКВД, что и было одним из главных пунктов обвинения во время следствия.
Личное знакомство с епископом Пием, возможно, вызывало у владыки сердечную симпатию к этому человеку, искренне сочувствующему страждущим людям, в том числе православным, готовому оказать и оказывающему им посильную материальную помощь, однако по-своему понимающему заповедь Христову о единстве Церкви, а именно считающему единственно возможным такое единство под омофором Папы Римского.
Имея с епископом Пием активные деловые и тёплые дружественные отношения, епископ Варфоломей, тем не менее, всегда был осторожен в высказываниях о Папе и о католичестве. Он вел тонкую дипломатическую игру, не отвергая, но и не принимая деятельно касающиеся его лично планы католиков.
Будучи укрепляем молитвами старцев – учеников преподобных Алексия и Германа Зосимовских – своего духовника игумена Митрофана (Тихонова), схиархимандрита Игнатия (Лебедева) других клириков и прихожан Высоко-Петровско го монастыря, своих духовных чад, владыка не колеблется в исповедании православной веры, в то же время сами разговоры о единстве Церкви не воспринимаются им как нечто чуждое и непременно враждебное.
Протопресвитер Виталий Боровой приводит в своем исследовании интересный документ: Всероссийский Собор на своем последнем заседании 7 (20) сентября 1918 года утвердил постановление «Отдела по Соединению Церквей»: «Считая единение христианских Церквей особенно желательным в переживаемое время напряженной борьбы с неверием, грубым материализмом и нравственным одичанием… Священный Собор Российской Православной Церкви… благословляет труды и усилия лиц, работающих над изысканием пути к единению… для разрешения трудностей на пути к единению и для возможного содействия к скорейшему достижению конечной цели» (рукописный подлинник протокола последнего заседания Собора 7(20) сентября 1918 года в Государственном Архиве Российской Федерации, фонд 3431, опись 1, Отдел о соединении Церквей, дело 495 (1) (2), 496/606)».[ ]
«…Никто не посмеет обвинить Патриарха Тихона, – пишет далее отец Виталий, – ради церковной пользы в бурные послереволюционн ые годы проявлявшего заинтересованнос ть в отношениях с представителями Католической церкви в Москве и благословившего встречи и обсуждение с ними насущных и общих для православных и католиков вопросов революционного наступления на Церковь новой советской власти. На этих собеседованиях по благословению Патриарха неоднократно председательство вал архиепископ Илларион (Троицкий), “великий Илларион”, которого невозможно заподозрить даже в симпатии к католичеству, однако польза Церкви требовала тогда вести с московскими русскими католиками такие собеседования».[ ]
Разговоры с Невё и переписка с д’Эрбиньи показывали владыке Варфоломею, что относительно догматических определений веры католики, с которыми он вел диалог, во многом соглашаются с православной позицией (возможно, под влиянием того же владыки). Например, они не считали необходимым настаивать на «Filioque» даже в тексте «Исповедание католической веры», которое давали подписывать тем, кто переходил в католичество, и на том, что Папа является главой Церкви. Вот что пишет, например, епископ д’Эрбиньи в своем письме владыке Варфоломею 17 сентября 1932 года: «…они последовали за Иисусом, который доверяет Свою Церковь и единство Собора апостолов… Петру,оставаясь Сам его Невидимым Главой ; Иисус присутствует всегда, но сокровенно, окормляя души через Собор апостолов…». . Это делает возможным для владыки позитивно высказываться в письмах к католикам относительно их общего служения Христу и Его Церкви, даже стать духовником епископа Пия. Последнее, к тому же, давало ему возможность не упускать из поля своего зрения взаимодействия владыки Пия с другими архиереями, в том числе православными, которые искали действительного сближения с Римом, и, при необходимости, противодействова ть этому. В то же время, католики только на основании поведения владыки Варфоломея во время встреч с епископом Пием и его писем стали считать владыку «своим». Они не могли знать, что ни одно из «поручений», которое было ими дано епископу Варфоломею в плане распространения идей об объединении православных с Римским престолом, не было им претворено в жизнь.
В следственном деле владыки Варфоломея написано, что он сам признался в том, что принял католичество. Некоторые исследователи восприняли это «признание» как «царицу доказательств», непреложное свидетельство «виновности» владыки в измене православной вере… Но что такое «признания», полученные во время следствия в застенках ОГПУ? «…Часто заключенному, доведенному до состояния невменяемости, даже не читали и не давали прочесть “показаний”, целиком написанных следователем, а просто заставляли расписаться или просто расписывались вместо него. Текст показаний почти всегда очевидно свидетельствует о том, что он сочинен самим следователем».
Племянница Николая Николаевича Милютина, иподиакона владыки, арестованного одновременно с ним, но просидевшего в Бутырской тюрьме дольше, рассказывала, что дядя вспоминал, как некоторое время с ним в камере находился человек, который видел владыку незадолго до его расстрела. «Вид владыки был очень плох, он был в мирской одежде, пальцы его были переломаны, но дух его был не сломлен», – написала она в своих воспоминаниях.
Следствию нужно было, чтобы владыка оказался католиком. Через полтора месяца после ареста «признание» в этом появляется в «деле» – вместе с признаниями в антисоветской, контрреволюционн ой и террористической деятельности – на листах, написанных рукой следователя, подпись под которыми «Ремов», сходная с подписью владыки, написана абсолютно идентичным, «неживым» образом, а обязательная для таких протоколов подпись, написанная рукой самого допрашиваемого – « с моих слов записано верно, мной прочитано» – отсутствует вообще.
«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? … покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих . …как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». (Иак. 2:14, 18, 26) Дела веры владыки Варфоломея говорят о том, что, как и вспоминают о нем прихожане Высоко-Петровско й обители, лично знавшие его, он был аскет и подвижник, молитвенник и прозорливец, пастырь добрый, внимательный до мелочей к своим чадам, великий труженик и мученик, душу свою положивший за друзей своих (Ин. 15:13).
Епископ Варфоломей был расстрелян в Бутырской тюрьме 10 июля 1935 года, причем главным обвинением было то, что он не выполнил своей подписки о сотрудничестве с НКВД и что сообщал епископу Невё «устно и письменно явно клеветнические и провокационные сведения о мнимом преследовании религии в Советском Союзе, зная, что Неве всю это информацию посылает за границу для использования по ведению антисоветской кампании».
Разгром общины Высоко-Петровско го монастыря и расстрел владыки Варфоломея изменили духовный климат в столице. «Как только владыку арестовали, все изменилось в Москве, – вспоминала одна из прихожанок монастыря. – Это было настолько разительно, настолько страшно!..»
В заключение этой небольшой статьи приведу слова владыки, которые она написал одной из своих духовных чад: «Все в духовной жизни совершается для нас необъяснимо внутренно; но борьба должна быть с ясным сознанием, что надо идти в смиренном желании идти путями Божиими, чутко их стараться усмотреть и действовать, как угодно Господу. Царский путь это – умеренный подвиг, умеренная жизнь и чистая совесть. Спасаться надо, пробираться сквозь тернии; надо пройти сквозь иглиные уши. Входи тесными вратами, узким путем в Царствие Божие. Осознай, что именно это-то и есть счастье».
Завесу над посмертной судьбой владыки приоткрывает письмо преподобномучени ка Игнатия (Лебедева), ближайшего помощника преосвященного Варфоломея, старца и духовника самой большой из «петровских» монашеских общин, присланное им через полгода после расстрела владыки из заключения своим духовным чадам: «…Я его видел во сне служащим, в саккосе у престола».
(1851 - 1918), Александра (1857 - 1918), Анны (1859 - 1925), Марии (1864 - 1953), Феодосии (1870 - 1938), Варвары (1872 - 1943).
Первоначально Сергей окончил местную приходскую школу. Родители с детства воспитывали в нем любовь к храму, церковным службам, молитве и посту. Сначала он помогал отцу в церковной службе, потом поступил в духовное училище.
Вступил в брак. Детей у о.Сергия с матушкой не было, впоследствии они взяли на воспитание мальчика Колю (будущий епископ Омский и Тюменский Никандр (Вольянников) и девочку из бедной многодетной семьи.
Будучи убежденным монархистом и борцом за русское дело на Кавказе , был избран в почетным членом Тифлисского патриотического общества, наиболее активной и крупной монархической организации на Кавказе.
По окончании ссылки был определен на жительство в город Богучар Воронежской области. Он служил в местной церкви и находился там до конца года, когда получил право на свободное проживание в СССР.
"Моя Воловниковская церковь разбита и сгорела почти до основания. Немцы предварительно ее грабили, а потом устроили из нее склад боевых припасов и около нее расстреливали пленных красноармейцев. Дом, в котором я жил, сгорел. Сгорели все мои книги, заметки, записки, мое маленькое имущество немцы украли ".
Пребывая на Новосибирской кафедре, он продолжал писать богословские труды, за что 24 июня года Московской и Ленинградской духовными академиями присвоено ему почетное звание доктора богословия .В уполномоченный Совета по делам РПЦ при Новосибирском облисполкоме Созоненок в секретной характеристике на владыку написал:
"Архиепископ Варфоломей - фанатично религиозный человек, с глубоко консервативными взглядами, большой приверженец русской старины, благожелательно относится ко всему русскому и отрицательно - к немцам и вообще к инаковерцам, особенно к баптистам и католикам , ревностный служитель Православной Церкви, стремящийся всеми силами и средствами расширить влияние Церкви, упрочить ее положение, уберечь духовенство и верующих от всякого прогрессивного влияния извне. В этих вопросах он неутомим, несмотря на свой возраст ."
Награды
- Церковные:
- крест на клобук (27 декабря 1943)
- право ношения двух панагий (26 декабря 1952 года)
- Светские:
- медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг."
Труды
- "Каков должен быть характер современно-церковной проповеди".
- "Прав. Обоз." 1891, сентябрь.
- Четыре проповеди. "Могилев. ЕВ" 1891, № 10-11, № 12-13, № 18-19.
- - " - 1892, № 18.
- "Мысли о посте" " Могилев. ЕВ" 1892, № 8-9.
- "Несколько слов о дневнике о. Иоанна Кронштадтского".
- "Могилев. ЕВ" 1892, № 25.
- Несколько проповедей за 1893-1900 гг.
- "Дух. Вестн. Груз. Экзарх."
- "Мысли о самоубийстве".
- "Радость христианина", кн. 3, 1895.
- "Мысли пастыря о некоторых изречениях св. еп. Павла, относящихся к пастырскому служению". Тифлис, 1903, Выпуск 2 и 3.
- "Пастырь проповедник по св. Иоанну Златоусту". Тифлис, 1903.
- "Как надо понимать возглас священника на утрени: "Слава Тебе, показавшему нам свет". Тифлис, 1930.
- Акафисты: Св. Ап. Варфоломею. Баку, 1917 год.
- Св. Первомуч. И архидиакону Стефану (в рукописи).
- Св. Филиппу, митр. Московскому (в рукописи).
- "Книга Иова" (Опыт библейско-психологического обозрения содержания книги).
- Магистерская диссертация (перепечатана на машинке с. 1-562).
- "Воплотившееся Слово Отчее - Единый Возсоздатель падшего человеческого естества (Новый Адам)". (отпечатано на машинке, с. 1-75).
- Речь при наречении его во епископа Можайского (в рукописи).
- "О богословствовании Свят. Патр. Сергия" (в рукописи).
- "Слово в полугодичный день поминовения Свят. Патр. Сергия". "ЖМП" 1944, № 12, с. 25-30.
- Статья в день памяти со дня кончины Патр. Сергия. "ЖМП" 1944, № 12, с. 27-28.
- Пастырское послание. "ЖМП" 1946, № 5, с. 56-61.
- "Памяти Патриарха Сергия". В книге "Патриарх Сергий и его духовное наследство". ЖМП. 1947, с. 206.
- Служба Свят. Иоанну Тобольскому. Новосибирск 1947.
- "Размышления о созидании в себе внутреннего человека". (в рукописи).
- "Объяснение чуда исцеления Гадаринских бесноватых" (в рукописи).
- Из статьи Сибирские Святители:
- "Св. Иннокентий, первый Иркутский епископ"."ЖМП" 1948, № 2, с. 31-39.
- "Св. Софроний, епископ Иркутский". "ЖМП" 1948, № 3, 26-30.
- "Св. Иоанн (Максимович), митр. Тобольский и всея Сибири". "ЖМП" 1948, № 3, с. 30-33.
- Новогоднее пастырское послание. "ЖМП" 1948, № 1, с. 70-72.
- Некролог о профессоре Григории Петровиче Георгиевском. Скончался 14 февраля 1948 года. "ЖМП" 1948, № 4, 48-50.
- "О пастыреводительном характере творений Св. Дмитрия митр. Ростовского". "ЖМП" 1949, № 1, с. 54-58.
- "Первый шаг к миру". "ЖМП" 1950, № 9, с.6-7.
- "О пастырском благовествовании". "ЖМП" 1950, № 6, с. 25-28.
- "О пастырском служении св. Ап. Павлу". "ЖМП" 1950, № 1, с. 43-50.
- - " - 1950, № 4, с. 54-59.
- - " - 1950, № 5, с. 54-60.
- "Воскресение и прославление воплотившегося Слова". "ЖМП" 1952, № 4, с. 35-39.
- "Искупительное значение страданий и крестной смерти Господа Иисуса Христа". "ЖМП" 1952, № 3, с. 51-61.
- "Подвиг земной жизни Спасителя". "ЖМП" 1952, № 2, с. 41-44.
- "Воплощение Сына Божия в плане домостроительства нашего спасения". "ЖМП" 1952, 1952, № 1, с. 51-53.
- Дневники, ст., послания [Вст. биогр. очерк прот. Б. Пивоварова], Новосибирск, 1996.
Документы, литература
- ГАРФ. Ф. 6991. On. 2. Д. 76.
- "ЖМП" 1943, № 1, с. 16-17.
- - " - 1944, № 8, с. 39.
- - " - 1946, № 9, с. 76, 77.
- - " - 1947, № 8, с. 39.
- - " - 1949, № 5, с.11.
- - " - 1950, № 3, с.19.
- - " - 1953, № 3, с. 6-8
- - " - 1956, № 7, с. 18-22.
- "Журнал заседаний Св. Синода" от 10.VII. и от 4.VIII. 1947 г.
- - " - № 23 от 16.XI.1948.
- - " - № 2 от 21.II.1949.
- - " - № 18 от 30.X.1950.
- - " - № 19 от 31.X.1950.
- Шаповалова А. "Биографические данные об архиепископе Варфоломее (Городцове)" с портретом. "ЖМП" 1947, № 7, с. 68-75.
- Правда о Религии в России. "ЖМП" 1942, с.377.
- Русск. Прав. Церк. в Вел. Отечествен. войне. с. 35-36.
- ФПС I, № 293, с. 12.
- A.E. Levitin-Krasnov, Die Glut deiner Hдnde (Luzern 1980), S. 145f.
- Платонов, О. А., ред., Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900-1917 , М., Крафт+, Институт русской цивилизации, 2008.
- За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917-1956. Биогр. словарь , т. 1: А-К, М., 1997.
- Косик, О. В., Пивоваров, Б., прот., "Варфоломей (Городцов Сергей Дмитриевич)," Православная энциклопедия , т. 6, М., 2003.
- Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века :
- http:// www.pstb.ccas.ru
- «По характеру человек прямой, свои мысли и желания высказывает прямо, не дипломатничает», ЖМП , 1999, № 6.
- Резникова, И., Православие на Соловках , СПб., 1994.
- Степанов, А., "Варфоломей (Городцов Сергей Дмитриевич)," Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм [Гл. ред., сост. О. А. Платонов, сост. А. Д. Степанов], М., 2003.
- Третий Всероссийский Съезд Русских Людей в Киеве , Киев, 1906.
- Die Russischen Orthodoxen Bischofe von 1893 bis 1965. Bio-Bibliographe von Manuil (Lemesevskij) , T. 2, Erlangen, 1981.
Использованные материалы
- БД ПСТГУ "Новомученики и исповедники Церкви Русской XX века (материал использован частично):
Диакон Андрей КУРАЕВ
О католической миссии в России 20-30-х годов ХХ века
Нынешняя община вновь открытого Высоко-Петровского монастыря предпринимает усилия с тем, чтобы был начат процесс канонизации архиепископа Варфоломея». Это обычное для наших дней известие о том, что группа людей, хранящих светлую память о своем духовном отце, расстрелянном в годы гонений, начала сбор документов и свидетельств, необходимых для причисления исповедника к лику святых новомучеников российских.
Одно необычно в этом сообщении — личность Владыки, представленного к прославлению в качестве святого Православной Церкви.
Николай Федорович Ремов родился в 1888 году. Окончил Московскую Духовную академию, посвящен в иеромонахи в 1912 году, был преподавателем и профессором МДА (с 1916 года); в 1920-1921 годы — проректор академии, а затем, по некоторым сведениям, ректор академии, перешедшей на подпольное существование. 10 августа 1921 г. Патриархом Тихоном посвящен во епископа Сергиевского. Позднее митрополитом Сергием, бывшим его соузником во время одного из арестов, возведен в сан архиепископа. До 1929 года был настоятелем Высоко-Петровского монастыря. Арестовывался в 1921, 1928, 1935 годах. Расстрелян в 1935 году.
Это те сведения, которые можно почерпнуть из доступных ныне источников по истории Русской Православной Церкви ХХ века. И если основываться только на них, то вопрос о прославлении расстрелянного архиерея представляется беспроблемным.
Но есть еще два источника сведений о жизни архиепископа Варфоломея. Это архивы. С одной стороны, это архивы НКВД, где хранится «Дело гр. Ремова». С другой — это зарубежные архивы (точнее, архивы Генеральной курии конгрегации ассумпционистов в Риме и Национальная библиотека Франции).
Впервые же вопрос о канонизации архиепископа Варфоломея поднял католический епископ д’Эрбиньи 1 . Именно он еще в тридцатые годы «хотел видеть Варфоломея канонизированным (beatifie)».
Д’Эрбиньи был личным другом папы Пия XI, основателем Папского Восточного Института. По распоряжению Пия XI тайно посвящен кардиналом Пачелли (будущим папой Пием XII) в епископы, для того чтобы совершать тайные епископские хиротонии в России. Д’Эрбиньи возглавлял папскую комиссию «Pro Russia» и Восточный Папский Институт, целью которого была подготовка духовенства для России на случай, если коммунистический режим падет или станет мягче, но прежде все-таки успеет истребить духовенство Русской Православной Церкви. Вот тогда на российские просторы, освобожденные большевиками от православных «схизматиков», придут служители Рима и присоединят-таки Россию ко «вселенской Церкви» 2 .
Иван Ильин так свидетельствовал о настроениях, которые царили в умах католических иерархов в межвоенный период: «Сколько раз за последние годы католические прелаты принимались объяснять мне лично, что “Господь выметает железной метлой православный восток для того, чтобы воцарилась единая католическая церковь”. Сколько раз я содрогался от того ожесточения, которым дышали их речи и сверкали их глаза. И, внимая этим речам, я начинал понимать, как мог прелат Мишель д’Эрбиньи, заведующий восточно-католической пропагандой, дважды (в 1926 и 1928 году) ездить в Москву, чтобы налаживать унию с “обновленческой церковью” и “конкордат” с Марксовым Интернационалом, и как мог он, возвращаясь оттуда, перепечатывать без оговорок гнусные статьи Ярославского-Губельмана, именующие мученическую православную патриаршую церковь (дословно) “сифилитической” и “развратной”... Я понял наконец истинный смысл католических “молитв о спасении России”: как первоначальной, краткой, так и той, которая была составлена в 1926 г. папою Бенедиктом XV и за чтение которой у них даруется (по объявлению) триста дней индульгенции...» 3
 Ильин только в одном не прав: д’Эрбиньи посещал Советскую Россию не дважды, а трижды, причем последний визит приходится все-таки на август-сентябрь 1926 года. Об одной из целей его визитов говорит Н.А. Струве: «Позволю себе отослать Вас к объективной книге о. Антония Ангера “Рим и Москва. 1900-1950” 4 . Вы в ней узнаете о лукавой политике иезуита монсеньора д’Эрбиньи, который в 20-х годах, пользуясь гонениями на патриарха Тихона, пытался склонить к Риму живоцерковников, затем перенес свои усилия, совместно с епископом Неве, на тихонов-ский епископат, в надежде добиться избрания на патриарший престол епископа, тайно принесшего присягу Риму» 5
.
Ильин только в одном не прав: д’Эрбиньи посещал Советскую Россию не дважды, а трижды, причем последний визит приходится все-таки на август-сентябрь 1926 года. Об одной из целей его визитов говорит Н.А. Струве: «Позволю себе отослать Вас к объективной книге о. Антония Ангера “Рим и Москва. 1900-1950” 4 . Вы в ней узнаете о лукавой политике иезуита монсеньора д’Эрбиньи, который в 20-х годах, пользуясь гонениями на патриарха Тихона, пытался склонить к Риму живоцерковников, затем перенес свои усилия, совместно с епископом Неве, на тихонов-ский епископат, в надежде добиться избрания на патриарший престол епископа, тайно принесшего присягу Риму» 5
.
5 февраля 1931 года в поезде, шедшем из Анконы, д’Эрбиньи написал Неве письмо, в котором излагал проект, который не может не повергнуть в изумление. «План мой сводится к следующему: нужно под-готовить избрание русского патриарха из числа епископов, находящихся сейчас на территории России, который — прежде чем открыто объявить о своем избрании — перебрался бы на Запад и, может быть... пошел бы на заключение унии со Святым Престо-лом. Должно быть, мой проект уже показался вам неосуществимым? Но мне кажется, что, изменяя некоторые части этого плана в зависимости от обстоятельств, мы сможем организовать выборы патриарха, в которых примут участие достойнейшие из находящихся в России епископов. Я думаю, что для этой роли подошел бы епископ Варфоломей. Сначала нужно будет собрать подписи епископов, находящихся в заключении, — возможно, им придется, как Филиппу Готтлибовичу, писать на своих рубахах, — потом под-писи лучшей части остальных архиереев. Часть подписей может быть передана вам и отправлена с вашей корреспонденцией. Другие, может быть, нужно послать обыкновенной почтой в Берлин, например, на адрес Михеля Раутеркуса — Кёниггретцерштрассе, 106. Когда эти документы окажутся в Ватикане, избранный патри-архом должен будет приехать сюда — или один, или (может быть, так будет даже лучше?) с одним или двумя другими достойными архиереями — возможно, из числа бывших узников. Мне кажется, что возможно осуществить переход границы через Чудское озеро. В любом случае этим делом стоит заняться всерьез. Кто знает? Может быть, Советы сами согласятся дать выездную визу надоевшему им человеку? Может быть, они подумают, что такой ценой им удастся избавиться от вас? Может быть, есть еще какие-нибудь спо-собы? Например, отправить его вместе с вами под видом вашего слуги? или двойника? или с диппочтой? Если все это окажется возможным, то провозглашение русского патриарха Ватиканом или благодаря Ватикану вполне может вызвать положительную реакцию. Патриарх на территории России — это и невоз-можно и опасно. Но патриарх, избранный гонимыми епископами и выехавший нз России до официального провозглашения его избрания, может иметь огромное влияние — как в России, так и за рубежом. После того как на тщательно подготовленном съезде — или, как они это называют, соборе — будет при участии Ватикана провозглашен новый патриарх, не приведет ли это к улучшению отношения к Святому Отцу и конкретным шагам, направленным на достижение стабильного союза? Затем, можно будет предложить патриарху совершить торжественное перенесение мощей святителя Николая, и — кто знает? — (как видите, моя мысль бежит гораздо быстрее, чем этот поезд, с трудом карабкающийся по Апеннинам) может быть, в подходящий момент удастся совершить “триумфальное шествие” мощей св. Николая в сопровождении как православных, так и католиков, среди которых будет находиться сам преемник святого Петра... Таким образом союз Церквей будет скреплен сна-чала в Риме, а потом в соборах Москвы, Петербурга, в Софии Киевской... (можно будет совершить шествие через Бессарабию). Безумие для человеков? Не исключено. А для Премудрости Божией? Подумайте, с чего можно начать, даже если конечный результат покажется вам весьма и весьма отдаленным во времени... Если для осуществления этого плана вам потребуются финансо-вые субсидии, напишите» 6 .
Этот план кажется авантюрным, если не знать церковной ситуации второй половины 20-х годов. После кончины Патриарха Тихона в 1925 году новый глава Русской Церкви не мог быть избран на Соборе, поскольку большевистские власти не давали разрешения на проведение Собора. Все Местоблюстители Патриарха к концу 1926 года были арестованы. Митрополит Сергий (Страгородский) возглавлял церковную администрацию с необычным титулом «Заместителя Патриаршего Местоблюстителя». Поскольку надежды на проведение Собора не было (все съехавшиеся на него были бы немедленно арестованы как участники нелегального, а значит, антисоветского собрания), то возникла идея проведения тайных выборов Патриарха. Это должны были быть выборы по переписке. Доверенные лица возили подписные листы по епархиям и собирали голоса архиереев, подаваемые в пользу той или иной кандидатуры. Даже сам митрополит Сергий принял участие в одной из таких подписных кампаний, за что и был в очередной раз арестован.
Наиболее авторитетные иерархи Церкви уже были под арестом или в ссылках. Поэтому на первые роли выдвинулись епископы, менее известные в прежние годы. Кроме того, поскольку ни технически, ни канонически невозможно управлять Церковью из какого-нибудь провинциа-льного города, приходилось более внимательно относиться к кандидатурам тех епископов, которые находились в Москве.
Был ли это только план или хотя бы часть его удалось реализовать? Д’Эрбиньи лишь мечтал о переводе владыки Варфоломея в католичество или этот переход действительно имел место?
* * *
Итак, какой же след оставил этот московский епископ в католических зарубежных архивах? Среди документов, находящихся в архивах Генеральной курии конгрегации ассумпционистов в Риме, хранятся две официальные грамоты комиссии Pro Oriente — от 25 февраля и 3 июля 1933 года — об учреждении титулярной кафедры Сергиевской в юрисдикции Рима. Латинские подлинники этих грамот имеют гриф «Pontificia Comissia Pro Oriente» без номера протокола и заверены печатью с двумя подписями: президента Комиссии епископа Мишеля д’Эрбиньи и ее секретаря Ф.Джоббе 8 . Это, как и многое другое из того, что делалось Комиссией «Pro Russia», имело полусекретный характер и осуществлялось хотя и с ведома папы, но исключительно авторитетом епископа д’Эрбиньи, имевшего относительно всех «восточных дел» чрезвычайные полномочия от папы.
Вот тексты этих декретов. «Папская комиссия “Про Руссиа”
Декрет
Поскольку Его Святейшество, Божиим Промыслом наш Господин Папа Пий XI, счел подобающим учредить в России, в Московской провинции, Сергиевскую кафедру и новый епископский титул, настоящим декретом Его Святейшество учреждает эту титулярную кафедру и назначает Монсеньора Варфоломея (Николая Федоровичa Ремова), уже облеченного епископским саном в восточном обряде 9 , определив ему быть титулярным епископом Сергиевским. Невзирая ни на какие противоречащие распоряжения.
Мишель д’Эрбиньи,
О. И. Титулярный епископ Илионский, президент».
«Папская комиссия “Про Руссиа”
Декрет
Поскольку Его Святейшество, Божиим Промыслом Наш Господин Папа Пий XI, 25 февраля сего года учредил титулярную кафедру Сергиевскую и назначил на нее Его Преосвященство Господина Варфоломея (Николая Федоровичa Ремова), а апостольский администратор Москвы обратился с просьбой дать ему викарного епископа, настоящим декретом Его Святейшество назначает епископа Варфоломея викарным епископом Его Преосвященства Монсеньора Эжена Неве, апостольского администратора Москвы, ad nutum S.Sedis только для верующих восточного обряда. Невзирая ни на какие противоречащие распоряжения.
Дано в Ватикане, Папской комиссией “Про Руссиа”.
Мишель д’Эрбиньи,
О. И. Титулярный епископ Илионский, президент » 10 .
Французский католический историк Поль Лезур 11 пишет о еп. Варфоломее: «Это был русский прелат, обращенный в католичество. Верховный Понтифик специально уполномочил его сохранить прежнее имя его кафедры, которое является столь почитаемым по всей России. Этот прелат, чье русское имя Николай Федорович Ремов... тайно принят в католическую Церковь 10 ноября 1932 г. и папою наречен епископом 25 февраля 1933 г., причем с титулом “Сергиевский” (он был первым православным епископом города Сергиев, ранее не имевшего ни некатолических, ни католических епископов). В одном из писем, адресованных монсеньору Неве 10 ноября 1932 г., он (Варфоломей.— А.К. ) писал: “Читая это письмо, я поистине чувствую себя Вашим братом (недостойным, но все же братом) и сотрудником. Это великое счастье для меня — осознавать себя принадлежащим вместе с Вами, монсеньор, к епископату вселенской Церкви”. Арестованный 6 февраля 1934 года, он был казнен 27 или 31 июля 1935 года после 18 месяцев пыток, в ходе которых от него требовали, чтобы он отрекся от единства с католичеством. Он остался, несмотря на все ухищрения совет-ских палачей, неколебимо верен католичеству и смог передать свидетельство своей верности Риму со свидетелем его последних пыток» 12 .
При этом по настоянию д’Эрбиньи и епископа Неве переход в католичество не должен был повлечь за собой никаких внешних перемен в жизни православного архиерея; он должен был оставаться в юрисдикции митрополита Сергия (но по возможности уклоняться от сослужения с ним) и по-прежнему окормлять братию Высоко-Петровского монастыря. Продолжая быть наместником Высоко-Петровского монастыря, епископ Варфоломей создал в нем тайную католическую общину, параллельную официальной православной. Православными были собственно монахи — братия монастыря, а тайными католиками — несколько монахинь и мирян. Впрочем, Венгер пишет, что в Высоко-Петровском монастыре знали о симпатиях своего настоятеля к католикам: «когда епископ поминал за литургией папу Римского, никто не высказывал возмущения» 13 .
А вот статья о владыке Варфоломее из современной Католической энциклопедии:
«ВАРФОЛОМЕЙ (в миру Николай Федорович) Ремов — архиеп. Сергиевский; род. 3.10.1888, Москва.… …10.08.1921 посвящен патр. Тихоном в сан еп. Сергиевского, викария Московской епархии. В 1923-29 В . — настоятель Высокопетровского монастыря в Москве. В окт. 1925 по поручению патриаршего местоблюстителя митр. Петра (Полянского) встречался с приехавшим в Москву священником М. д’Эрбиньи. В 1928 В. вновь арестован, но через месяц освобожден. После закрытия Высоко-Петровского мон. служил в моск. церквях Димитрия Солунского и Рождества Богородицы в Путинках. В 1928 В . познакомился с катол. епископом П.-Э. Невё и через некоторое время между ними установились близкие, доверительные отношения. В . регулярно информировал Невё о церк. и полит. ситуации в СССР. В нояб. 1932 В. совершил тайный переход в католичество, 25.02.1933 грамотой комиссии “Pro Russia” была учреждена титулярная кафедра Сергиевская в юрисдикции Св. Престола, а 3.07.1933 В . был поставлен на эту кафедру и назначен викарием апост. администратора в Москве для католиков визант. обряда. 9.07.1934 митр. Сергием (Страгородским) В . был возведен в сан архиепископа. Арестован 21.02.1935 вместе с 22 членами общины “нелегального Петровского монастыря”, а 17.06.1935 приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. 10 июля того же года приговор был приведен к исполнению» 14 .
Так почему же последний ректор Московской Духовной академии оказался в католичестве?
Может быть, здесь сказалась традиционная русская завороженность активностью и организованностью католической церкви 15 . Это чувство мощи и порядка должно было быть особенно острым на фоне церковного разгрома и развала 30-х годов.
На решении владыки Варфоломея могло сказаться и обычное тще-славие, которого, похоже, он был не чужд. Во всяком случае, в мемуарной литературе сохранился один эпизод, говорящий об этой черте характера Варфоломея Ремова: «В последнее время перед закрытием Лавры Вассиан жил с Варфоломеем даже в смежных комнатах, но не упускал случая посмеяться над суетностью своего друга. Варфоломея должны были рукоположить во епископа сергиевского, что и произошло. Но в последние месяцы перед хиротонией Варфоломей очень волновался, хотя и старался этого не показывать. Причину волнения будущего епископа мне открыл Вассиан, сказав: “Варфоломей знает, что его дело в принципе уже решено. Епископом он будет; но боится, чтобы я его не обогнал — как бы ему не пришлось у меня благословиться! Видите, какие пустяки могут отравлять жизнь совсем не глупого человека”» 16 .
Наконец, первый импульс к сближению владыки Варфоломея с католичеством мог исходить совсем из нецерковных кругов и из нецерковных соображений. Освобождение владыки Варфоломея из-под ареста в 1928 г. так описывается Алексеем Юдиным, католическим журналистом, работавшим с архивами КГБ: «Причину проясняют материалы дела 1935 года, где прямо сказано, что владыка сотрудничал со следственными органами. Видимо, он был принужден к такому сотрудничеству после ареста в 1928 г.» 17 .
К 1928 году относится начало общения этого православного архиерея с католическим епископом Неве. В 1935 году следователь так прямо и скажет Варфоломею: «Вы имели прямое поручение разрабатывать Неве, на деле же вы сотрудничали с Неве в борьбе с советской властью». О том же говорит и приговор от 17 июня 1935 года: «Данными предварительного и судебного следствия установлено, что Ремов, состоя секретным сотрудником НКВД , неоднократно встречаясь в Москве в 1934 г. и в начале 1935 г. с неофициальным представителем Ватикана в Москве — Неве, систематически сообщал ему, в нарушение служебного долга, устно и письменно, явно клеветнические и провокационные сведения о мнимом преследовании религии в Советском Союзе» 18 .
Итак, первые контакты Варфоломея Ремова с католическими епископами начались по заданию НКВД. Затем, возможно, в нем проснулся и личный (богословский, духовный или личностный) интерес к католичеству. Владыка Варфоломей служил НКВД явно не за совесть, а за страх. И потому, пользуясь негласным разрешением на контакты с иностранцами, он уже по своей инициативе передавал им правдивую информацию о преследовании верующих в Советском Союзе (точно так же позднее поступал митрополит Никодим Ротов).
Именно поэтому приговор Ремову был необычно суров по меркам начала 30-х годов: не ссылка и не лагерь, а расстрел. И это несмотря на то, что Ремов сообщил следствию и имена доверившихся ему людей, и их слова и поступки, трактовавшиеся как антисоветские: «Здесь необходимо отметить тот печальный факт, что большая часть показаний, предъявленных арестованным, была получена следствием от самого Варфоломея» 19 . Так, например, он дал повод для обвинения в антисоветской деятельности епископа Неве: «Осенью 1934 г. Неве предложил Ремову найти доказательства, хотя бы косвенные, участия коммунистов в убийстве французского министра Барту, намекая, что это ему нужно в целях борьбы с советской властью» (из обвинительного заключения).
Захочет ли католическая церковь исполнить желание монсеньора д’Эрбиньи и канонизировать архиепископа Варфоломея Ремова — не знаю. Это, в конце концов, внутреннее дело католической церкви. Но внутри Русской Православной Церкви инициатива «нынешней общины вновь открытого Высоко-Петровского монастыря», несомненно, должна быть приостановлена. Странно лишь, что сама Православная Церковь узнает об этой инициативе из католического журнала.
Лишь Бог может быть судьею владыке Варфоломею. Земная Церковь, прославляя того или иного своего члена, в его лице указывает на его жизнь как на пример для подражания, как на путь к святости. Вряд ли в качестве такого пути может быть указан путь владыки Варфоломея — путь тайного перехода к иезуитам и путь тайного сотрудничества с НКВД.
Примечания
1. Lesourd P. Entre Pome et Moscou. Le jesuite clandestin. Mgr. Michel d’Erbigny. Paris, 1976. P. 87.
2. «Я помню, в Париже, недалеко от цер-кви Нотр-Дам, была небольшая униатская церковь, арабская. Я помню, туда вошел, мне было лет восемнадцать-двадцать, и священник мне говорит: “Вы интересуетесь верой?” Я говорю: “Да”. И он мне тогда начинает рассказывать: “Вот смотрите — несмотря на то, что у нас такой странный храм — иконы, иконостас и так далее — мы самые заправские католики!” Я ему ответил: “Вы знаете, этим вы меня не привлечете, потому что я православ-ный”. И тогда он мне: “Православный? Так, значит, нас ничто не разделяет! У нас тот же самый обряд”. И это то самое, что меня всегда возмущало в католичестве… То, что нас отделяет от католиков, — это их нечестность: с одной стороны, очень большая резкость вероучитель-ная, а с другой — готовность вступать в очень большие компромиссы, лишь бы ты перешел к ним» (Бог — изгнанник на земле. Интервью с митрополиом Сурожским Антонием // Сибирская православная газета. Тюмень, 2001, сентябрь).
3. Цит. по: Прот. Митрофан Зноско-Боровский. Православие, Римо-Католичество, Протестантизм и сектантство. Троице-Сергиева Лавра, 1991. с. 15.
4. Ангер, или Венгер — профессор Лионских католических факультетов и советник посольства Франции при Ватикане. Французское издание его книги — Wenger A. Rome et Moscou, 1900-1950. Paris, 1987.
5. Струве Н. Ответ на письмо в редакцию // Вестник РХД. № 161. с. 286.
6. Венгер А. Рим и Москва, 1900-1950. М., 2000. С. 304.
7. Там же. С. 307.
8. Цит. по: Юдин А. Я готов на любые жертвы. Расстрельное дело архиепископа Варфоломея (Ремова) // Истина и жизнь. 1996. № 4. с. 34.
9. Чтобы было понятно, как Д’Эрбиньи относился к епископу Варфоломею до принятия им унии, да и ко всем православным епископам, приведу его суждения о некатолической иерархии: «Католическая церковь догматически признает действительность посвящений даже незаконных. Со всею традицией веков, предшествовавших разделению церквей, она знает, что священный характер священства и епископства может быть передан руками и волею всякого истинного епископа, даже если он виновен или отделен от единства церкви. В согласии с практикой древних соборов она продолжает считать священниками и епископами диссидентов, которые были посвящены так, даже вне ея, и она включает в себя без нового посвящения всех тех, которых Св. Дух возвращает в ее лоно. То, что делает недействительными посвящения англиканской церкви, это не их браки, ни даже ересь посвящающих, а то обстоятельство, что они не могут передать того, чего не хватает им самим с самого начала, благодаря недостатку власти у первых инициаторов разрыва. Восточные епископы получают и передают действи-тельно сокровище посвящения: незаконность их иерархии не уничтожает действительности блага, которое находится в их руках. Священство англиканской церкви и все украинцы Липковского, наоборот, обладают только титулом и желанием, но ничем реальным. Иллюстрированные журналы Англии воспроизвели фотографию, на которой изображены митрополиты Антоний и Евлогий, сидящие сбоку и ниже лиц неправославных под председательством епископа Кентерберийского. Много русских старого режима прямо глазам своим не верило: “Как могут они упрекать еще в чем-либо других епископов, даже красных? Архиепископ Кентерберийский не только выбрит и женат, но он не признает даже авторитета первых семи соборов... Липковский менее еретичен”. Я совсем не хотел говорить при этом о тех прелатах, которые не только открыто порицают всякий культ св. Девы и святых, но отрицают и Божест-венность Иисуса Христа. Браксам по себе не мешает ни передаче, ни приятию священства и епископства. И то и другое дей-ствительно передается, но это антиканонично, если происходит вне пределов церкви. Таким образом, когда какой-нибудь священник из восточных диссидентов приступает к посвящению, как монах или как женатый, это относительно второстепенно: посвящение, которое он получает по ритуалу, вне единства апостолической коллегии, вне общения с Петром, сообщая ему власть всегда идентичную, налагает на него те же обязанности исправить свое антиканоническое и незаконное посвящение и возвратиться к единству. Все соперничающие иерархии в разделившейся православной церкви с этой точки зрения стоят одна другой, кроме иерархии Липковского, который в Киеве с 1924 посвятил целую мас-су людей во епископа, не получив сам такого посвящения от какого бы то ни было епископа» (Д’Эрбиньи. Церковная жизнь в Москве. Париж, 1926. С. 64-65).
10. Там же. С. 311.
11. Профессор Поль Лезур — архивист и палеограф. Книга Лезура написана как материал для жития д’Эрбиньи, и автор выражает свое убеждение в том, что д’Эрбиньи должен быть канонизирован. Книга написана на основании автобио-графии д’Эрбиньи. Автор не работал в архивах Ватикана. Все документы Лезуром с разрешения семьи д’Эрбиньи помещены в Национальную библиотеку Франции.
12. Lesourd P. Entre Pome et Moscou.p. 87.
13. Венгер А. Рим и Москва, 1900-1950. М., 2000. С. 303.
14. Католическая энциклопедия. М.: Издательство Францисканцев, 2002. Т. I (А—З). С. 834-835.
15. О знаменитом ленинградском митрополите Никодиме (Ротове), о котором нередко также говорят как о тайном католике, современный публицист (кстати, уж совсем не тайный, а открытый униат) Яков Кротов написал, что «в католичестве митр. Никодим любил власть, а не святость» (Кротов Я. Рецензия на книгу М.Мэлаки «Ватикан» // Христианство в России. 1995. № 3. с. 51). Заслуживает интереса и следующее сообщение А.Венгера: митрополит Ленинградский Никодим (Ротов) рассказывал ему, что он служил в коллегиуме «Руссикум» (иезуитском очаге для миссионеров «восточного обряда») на антиминсах, посланных еще в 20-х или 30-х гг. епископом Неве епископу д’Эрбиньи.
16. Волков С. Последние у Троицы. М.-Спб., 1995. с. 252-253.
17. Юдин А. Я готов на любые жертвы. Расстрельное дело архиепископа Варфоломея (Ремова) // Истина и жизнь. 1996. № 4. с. 36.
18. Там же. с. 39.
(Ремов Николай Федорович; 3.10.1888, Москва - 26.06.1935, там же), архиеп. Сергиевский, вик. Московской епархии. Род. в семье священника Успенской ц. на М. Дмитровке в Москве. Окончив Заиконоспасское ДУ, поступил в Московскую ДС, в 1908 г.- в МДА, к-рую окончил в 1912 г. со степенью канд. богословия. 10 июня 1911 г. в Зосимовой в честь Смоленской иконы Пресв. Богородицы пуст. был пострижен в мантию ректором академии Волоколамским еп. Феодором (Поздеевским) , 23 июня рукоположен во иеродиакона, 18 февр. следующего года - во иеромонаха. После защиты магист. дис. «Книга пророка Аввакума: Введ. и толкование» (Серг. П., 1913) назначен доцентом кафедры Свящ. Писания ВЗ, в 1916 г.- экстраординарным профессором МДА. Неск. лет был благочинным храмов г. Сергиева (Сергиева Посада), с 1919 г. являлся настоятелем академического Покровского храма в Сергиеве, был возведен в сан архимандрита. 6 сент. 1920 г. арестован по обвинению в том, что в неделю Крестопоклонную (перед вскрытием мощей прп. Сергия Радонежского) произнес проповедь, имевшую «своим результатом крайнее возбуждение темных масс, к-рые устремились к месту производства реставрационных работ в лавре и принудили мастеров, под угрозой избиения, данные работы приостановить», а также в том, что «он являлся активным членом «Союза защиты Троицкой лавры», имевшего своей конечной целью превращение лавры в национальный центр, откуда (по мысли основателей союза) должен раздаться клич о спасении разбитой большевиками «единой, неделимой православной Руси»». Усугубляющим вину обстоятельством обвинение посчитало назначение В. Патриархом св. Тихоном на должность директора Высшего Богословского ин-та. 28 февр. 1921 г. В. был освобожден по постановлению Президиума ВЧК «ввиду тяжкого состояния здоровья».
28 июля 1921 г. состоялась хиротония В. во епископа Сергиевского, викария Московской епархии, к-рую возглавил Патриарх Тихон. После закрытия Троице-Сергиевой лавры В. в 1923-1929 гг. являлся настоятелем Высокопетровского московского муж. мон-ря во имя апостолов Петра и Павла . Был почитаем в Москве как аскет, молитвенник и исповедник. Являясь духовным чадом старцев Смоленской Зосимовой пуст. преподобных схиигум. Германа (Гомзина) и иеросхим. Алексия (Соловьёва) , В. после закрытия пустыни принял многих из числа ее братии в Высокопетровский мон-рь.
В 1928 г. архиерей был арестован по обвинению в «укрывательстве шпиона», в тюрьме дал подписку о сотрудничестве с ОГПУ. В 1929-1935 гг. являлся настоятелем московского храма в честь Рождества Пресв. Богородицы в Путинках, к-рый после закрытия Высокопетровского мон-ря стал последним центром уже нелегальной иноческой жизни в Москве. 9 июня 1934 г. возведен в сан архиепископа. Начиная с 1929 г. В. критически относился к деятельности Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского) , считая, что она «протекала в соответствии с органами гос. власти». Не желая на деле исполнять обязанность секретного сотрудника ОГПУ и ища выхода из создавшегося положения, В. сблизился с католиками. К 1928 г. относится начало его отношений с апостольским администратором в Москве католич. еп. Пием Эженом Неве, с к-рым В. познакомился через А. А. Румянцева, увлекавшегося идеей соединения католич. и правосл. Церквей. В 1932 г. В. тайно перешел в католичество, в 1933 г. был утвержден Ватиканом в должности нелегального помощника Неве. В архивах Генеральной курии конгрегации ассумпционистов в Риме хранятся 2 грамоты папской комиссии «Pro Russia», возглавлявшейся еп. Мишелем д"Эрбиньи, от 25 февр. и 3 июля 1933 г.: акт об учреждении титулярной Сергиевской кафедры в юрисдикции Рима (кафедра считается уже существующей в правосл. Церкви) и акт о поставлении на титулярную Сергиевскую кафедру «уже облеченного епископским саном в восточном обряде... Его Преосвященства монсиньора Варфоломея (Николая Федоровича Ремова)» и о назначении его викарием апостольского администратора в Москве (еп. Неве) для католиков вост. обряда. В планах д"Эрбиньи о новой унии В. отводилась роль рус. патриарха вост. обряда.
21 февр. 1935 г. В. был арестован в Высокопетровском мон-ре, заключен в Бутырскую тюрьму в Москве, обвинялся в измене и нарушении служебного долга по отношению к ОГПУ-НКВД (следователь говорил В.: «Вы имели прямое поручение разрабатывать Неве, на деле же Вы сотрудничали с Неве в борьбе с сов. властью»), поводом для обвинения явились тесные отношения В. с Неве и переписка с Римом. В. признал себя полностью виновным, дал информацию к обвинению мн. своих духовных чад. Расстрелян по приговору военной коллегии Верховного суда СССР.
Соч.: Пророк веры // БВ. 1914. № 1. С. 13; Какою должна быть обличительная проповедь? // Голос Церкви. 1914. Янв./февр.; Пророк последних дней первого Иерусалима // Юбил. сб. МДА. Серг. П., 1914. Ч. 2. С. 537-548; Поем Воскресшему из мертвых // Моск. ЕВ. 1915. № 12-13; Согрешил, Отче! // Моск. ЦВед. 1914. № 6; Об изучении Свящ. Писания // Христианин. 1914. № 1; Памяти великого святителя: [Филарет (Дроздов), митр. Московский] // БВ. 1918. № 1. С. 1-80; Письма и автобиография / Публ. А. Беглова // Альфа и Омега. 1996. № 2/3 (9/10). С. 353-378; Из духовного наследия / Предисл. и публ. А. Беглова // Там же. 1998. № 4 (18). С. 119-133; Мы владеем всерадостной тайной / Публ. А. Беглова // Там же. 2000. № 1 (23). С. 87-108.
Арх.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р-28266; Д. Р-39843.
Ист.: Именной список ректорам и инспекторам на 1917 г. С. 24.
Прот. Владимир Воробьёв
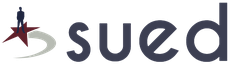










Запеченный лещ в духовке – рецепт с фото
Печенье “Улитка” Испечь улитки из песочного теста
Глуховский государственный педагогический университет Глуховский национальный педагогический университет в кременчуге
Одесский национальный университет им
Какие бывают приставки: значение и правописание